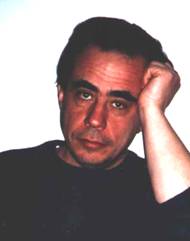
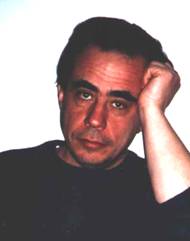
Семен Гурарий – имя в современной литературе звонкое и
известное тем, кто слышит музыку 21-го века в стихах и в прозе.
Он алогичен ровно настолько, насколько алогична жизнь. Мне особенно близок его
органичный трагизм и метафизическая глубина образов.
Дитя идиллии – шестиконечная звезда, прими побои за избавленье...
Так может сказать только настоящий и очень современный писатель.
Константин Кедров
ПРОСТРАНСТВО СЕРЕДИНЫ
Казань
Калитка, корневище, карамель,
Кириллицы кичливой кабала,
Картавых, косных клавиш канитель,
Казённая кремлёвская кайла...
Афинские авансы, авгиевы альковы,
Зачатье западни, зарок Заречья,
Закатным золотом закованный,
Арканный адресочек алтынчечий...
Невидимая невидаль, награда невпопад,
Нарядная нескладица, невежда,
Наркозное неведенье, навет, набат,
Напевная, надменная надежда...
Всё правильно: быть может в самом деле воспоминание – это лишь нагромождение бессвязных на первый взгляд метафор.
И всё же замечательно, что вновь оживающая, порой корявая реальность возникает вне зависимости от наших желаний. Своевольничает и начинает жить по каким-то своим законам, обретая неожиданные контуры и формы. В нашем конкретном случае – «акростихические».
Однако, воссоздаваемая словесная ткань почти никогда не может совпасть с памятью, которая бесконечно основательнее и подробнее летучих всполохов воспоминаний.
И мой акростих «Казань» не стал исключением. Запечатлевшись в строчках, этот текст-воспоминание сам в свою очередь давно уже стал воспоминанием о странном светлом утре 98 года в осеннем Мюнхене, о спонтанном чувстве тоски, переросшей в лихорадку возникновения чуть ли не в один день неправдоподобной стихотворной почвы.
Возвращаясь время от времени к тексту, меня не покидало чувство приблизительности и желание наполнить строчки более прозаическими, осязаемыми деталями: полузабытым говорком, звучанием улиц, запахами, рукопожатиями... Словом, текст сам требовал перехода в другое измерение. В другой жанр.
Так и возникли постепенно эти разрозненные впечатления, хаотичность формы которых, как ни странно, успокаивала, словно бы подчёркивая их бесцельность.
Предлагаемые заметки призваны не отрицать известные или общепринятые толкования и ракурсы. И уж тем более, не переписывать историю по примеру одного из китайских императоров (а ведь каждый из нас по определению поэта «маленький государик»), считавшего, что история как раз и должна начинаться с него. К сожалению, этой «оригинальной» формулой руководствуются с успехом и поныне, что даёт вашему покорному слуге повод частенько изумляться несовпадениям в зрении, слухе, обонянии с некоторыми своими современниками. Вроде бы жили мы в соседних домах, на соседних улицах, дышали одним и тем же воздухом, питались одинаковыми продуктами по талонам, слушали на собраниях и политинформациях те же бесчисленные директивные постановления всевозможных инстанций...
Что же нас всех изначально таких разных соединяло – неужели только слепой случай и время? Праздный вопрос. Тем не менее, так хочется верить в нечто неизмеримо большее, смысловое и осознанное...
В наше время, впрочем, почти никто на дефицит понимания нашего общего прошлого пожаловаться не может. По примеру государства любой гражданин в состоянии теперь – в угоду себе – объяснить практически всё. После запретов на всё и вся, выдана некая всеобщая индульгенция на собственное мнение. Говорят и с телеэкранов, и с печатных страниц – как, что и почему...
Иллюзия многополярности мнений, тем не менее, так и остаётся иллюзией. В перезвоне говорильни прав, конечно, тот, у кого голос понахрапистее, да и суждение «безоговорочнее».
Между тем, любая неуверенность предпочтительнее разнузданной безаппеляционности, освобождающей нас от сомнений и правдивости. Она то и позволяет верить в весьма сомнительную сентенцию о неуничтожимости прошлого. И пусть у авторов воспоминаний могут быть нелепые предвзятости и неточности, однако если они выражают оригинальное видение времени, они врастают в общую память о том коротком отрезке истории, существующем в каждом человеке. Ведь окружающий нас мир – это лишь отражение наших о нём представлений.
Итак, пространство престольного волжского города Казани второй половины 20 века в пристрастных заметках автора, которому, тем не менее, не хочется быть чем-то обязанным своим современникам и претендовать на полноту и на безоговорочность суждений. И уж тем более надеяться на их взаимную любовь.
Казань – котёл народов, традиций, терпкое варево притворного сиротства, гордости и чванства, мешанина, блаженная эклектика...
Когда-то всё в городе разъединяя, объединяло. Некая эпидемия казанства. Особый знак родства. Всегда удивляло: казанцы – звучит, но не – казанец, тем более – казанка. Только множественное, общее число.
Казань не вырастала, множилась. И вмещала как бы весь мир. Долгое время для нас закрытый. В студенческие годы мы без труда открывали для себя в провинциальном городе и сиреневые сумерки парижских кафе, и светомузыкальные предвидения Скрябинско-Прометеевских пожаров, и прокуренные литературно-футуристические салоны предреволюционной Москвы, и атональное сумаcшествие Вены, и джазовые клубы Манхэттена...
Также, впрочем, как и впоследствии в разных городах мира нас ожидали встречи с Казанью. Общеизвестно казанское культурное "присутствие" в Москве, Петербурге да и в остальной России. Но как объяснить появление в Нью-Йорке Казанского скверика, в котором так уютно сиживать по российской привычке на лавочке? Или что за удовольствие искать и находить старинные офорты о Казани в антикварных залежах Зальцбурга, Парижа, Антверпена...
Казань не стоит, а слепо распласталась по берегам двух рек и нескольких озёр – диковинная летучая мышь, прислушивающаяся недоверчиво то ли к себе, то ли к ритмам далёких пространств. Ночная птица возвращения.
Между Европой и Азией – и в самом деле где-то посередине? Или всё-таки в центре?
Город серединный и по величине. Не Токио, но и не Новгород или Лаишево. Да и само слово Казань на "К", из середины алфавита. Фонетически тоже срединное, качающееся на двух "А". Не длинный, и не короткий гортанный мотив. Вслушайтесь – это не игривый Пинск. И не державный, рокочущий элитарными "Р", Санкт-Петербург. И не витиеватая, предобморочная Алма-Ата. Казань с ударением на второй слог. В одном ряду с Москвой, Пекином, Парижем, Берлином...
Однако, в отличии от сановитых фонетических побратимов, в звучании Казани слышится и затёртая простоватость, милая домашняя обыденность. Одним словом, Казань-Деризань. В центре слова, конечно, "З" поддразнивает, указывает на скрытую силу и характер. Но в конце – всё примиряющий мягкий знак.
В европейских языках слово Казань теряет твёрдость "З", смягчающую концовку, и звучит чужеродно: Кацан.
Казань-Кацан – утерянная, желанная сердцевина?
1959 год. Первая прогулка по городу ухабов. Ты по нему не шёл, а проваливался под горку или преодолевал очередной несуразный подъём. Несимметричное пространство, в котором улицы и переулки теснились, наползали друг на друга внахлёст – усекая, противореча. Одинокие дома-красавцы были как бы не в счёт. Чужеродные и экзотичные.
Меня высадили из пикапа «Шкода» на грохочущей улице Вахитова. Теперь, мол, сам двигайся... Одурманенный запахами то ли мыла, то ли фекалий, то ли одеколона, я поплёлся пешком по трамвайной линии. Казалось почему-то тогда – на север. Подталкиваемый пыльным ветром, забрёл в похрапывающую в стариковском забытьи Тукаевскую. Скорость моего продвижения, тем не менее, странным образом возрастала. Мимо озера Кабан, заросшего тиной и масляными разводами, уже пронёсся по берегу, не оглядываясь.
И вот ты остолбенело стоишь, застигнутый врасплох, в глубине засасывающей воронки и интуитивно понимаешь, что находишься в самом центре разляпистой, обветренной казанской вселенной под названием площадь Куйбышева (в простонародье Кольцо). Несуразно кособокие здания-гибриды заносчиво выставляли напоказ своё обмыленное тысячами глаз несоответствие. Улицы, зигзагами карабкавшиеся от площади, кружили взгляд: выбирай на вкус и цвет пути-дорожки, топчи, исхаживай, обустраивайся – казанéй, казанец, казанéй...
Наверх ли по Бутлерова мимо сановитой колоннады Финансового института в зеленые купеческие закоулки и палисадники? От кинотеатра ли «Вузовец» и автобусной «дербышкинской» остановки в Лядской садик? По пыльной и горбатой Куйбышева к Опере? По колдобинам Профсоюзной к Кремлю? А может нырнуть в тревожную толчею Баумана? Или скатиться вниз к Речному порту? А можно и на диковатый восток по унылой Свердлова или по шестому трамвайному маршруту мимо вросших в землю деревянных домиков? Или по тенистой Островского к Тюзу и Булаку?
Названия я узнал, конечно, потом. А тогда всё вокруг что-то напоминало. И было дозволено попробовать, понюхать потрогать на ощупь.
Звуки города-оборотня ворочалась где-то глухо, под боком, рядом, на периферии, соблазняли меняющимися ликами, заманивали тринадцатилетнего зеленодольца и вновь испечённого учащегося Казанского Музыкального училища.
Потому-то, все пути, исхитряясь, и вели поначалу к короткой улочке Жуковского. Музучилище – плывущее здание в кружевных балконах. Два подъезда. Один на моей памяти был всегда закрыт. Парадный вход с выщербленными ступеньками. Тяжёлая, старинная дверь. Ты входил в табачный дым. Сверху с полукруглых перил тебя ощупывала насмешливыми взглядами крикливая пёстрая масса. За спинами студентов танцевали от сквозняка плохо прикнопленные к стенам афиши.
Ты подымался по каменным ступенькам, толкал резную дверь со стеклами и оказывался в квадратном холле. По обе стороны двери стояли скамейки. Можно было плюхнуться и... наблюдать. Слева комнатушка-вешалка, в «недры» которой допускались лишь студенты. «Чужаки» обслуживались техничкой или подрабатывающими студентами.
Справа маленькая учительская в проходной комнате с секретаршей. Из нее два пути: налево к завучу, направо в бухгалтерию. На столе у секретарши стоял единственный для педагогов и студентов телефон. Параллельный находился в кабинете завуча. Тем не менее, студентам разрешалось вечерами свободно звонить по нему.
Главная достопримечательность фойе – огромное зеркало, перед которым прихорашивалась прекрасная половина обитательниц училища. Сказано не для красного словца. В те времена по негласному мнению казанского студенчества (в Казани уже тогда было по-моему десять вузов) самые красивые и модные девочки города обитали в КМУ.
Просторная старинная лестница вела на второй этаж. Под лестницей располагался буфет с нехитрым ассортиментом: чай, ватрушки с творогом, жареные пирожки, иногда сметана. Но студенты и педагоги, стоявшие демократично в общей очереди, были довольны.
Слева по коридору семь учебных классов для групповых занятий за стеклянными дверьми. Опоздавшие, соответственно, могли легко удостовериться – сколько человек присутствует на семинаре или на лекции. Ловкачи умудрялись жестами назначать свидания девчонкам.
В конце коридора читальный зал и библиотека. Из неё ход в запертый подъезд, где иногда тихо занимались духовики или ударники. Частенько их без труда заглушал голос библиотекарши Серафимы Исаковны. Она оглядывала учащихся оценивающе и требовала, чтобы не мямлили. С ней старались не ссориться, иначе можно было забыть о пользовании библиотекой. Как у всех властных и капризно-своевольных людей, у неё были, разумеется, свои любимчики, получавшие ноты и книги без очереди.
Второй этаж – три просторных фортепианных класса с двумя роялями. Четвёртый поменьше – вокальный. Двери директора соседствовали с концертным залом. На зачёты и концерты выходили в те времена из примыкавшего с другой стороны к сцене спортивного зальчика. На переменах и в особенности во второй половине дня студенты «резались» в настольный теннис. Это относилось к кодексу чести – умение играть в пинг-понг. Позже, по мере расширения и строительства подсобных помещений, из спортзала сделали учительскую.
Третий этаж встречал разноголосым «баянным пристроем», далее направо по коридору три класса с низкими потолками для групповых занятий. И после поворота ещё три неуютных комнаты. Да, чуть не забыл про пожарную лестницу с туалетами. И подвал с военным кабинетом. И ещё тысяча никому уже не нужных, но дорогих мне подробностей. Стоп...
Музыка долгое время для меня существовала отдельно от Музучилища. Она как бы приручала и одновременно выталкивала. Изгоняла. И ты должен был бродить где-то рядом, даже не на обочине, а в других мирах. Никакого постепенного освоения. Вхождения. Мало того, отдельные миры враждовали. И ничего не складывалось. Музыкальный мой мизерный опыт не сопрягался с другой жизнью. Вероятно от того, что автор этих строк семь лет провёл в маленьком тихом Зеленодольске и Казань ворвалась слишком шумно и неожиданно в мою жизнь. Словом, музыка и город осваивались одновременно. С помощью сверстников, благо их хватало – незабываемое романтичное племя таких же беспечных шалопаев, как и ваш покорный слуга.
Между тем, в тогдашней музыкальной жизни Казани, Музучилище занимало одно из важнейших и основополагающих мест. Хранитель, так сказать, музыкальных традиций, стариннейшее учреждение музыкальной культуры и образования. Все остальные институции были помоложе, и как бы неустойчивее, в постоянном раже реорганизаций и усовершенствования: оперный театр, филармония, консерватория и открывшиеся чуть позднее Средняя специальная музыкальная школа при консерватории, Музфак пединститута, Институт культуры.
Музыкальное училище – это был оазис здорового консерватизма. Пожалуй, в этом смысле с училищем могла конкурировать только Первая музыкальная школа во главе с незабываемым Рувимом Львовичем Поляковым, который тоже в своё время директорствовал в КМУ.
В моё же студенческое время Музучилищем (в общей сложности более 25 лет) руководил Аухадеев Ильяс Ваккасович, роль и значение которого, как мне кажется, до конца не обозначено и усилиями некоторых его «благожелателей» сведено было порой и на нет. Между тем, именно он оказался в самые трудные годы во главе Оперного театра, когда были осуществлены легендарные постановки С.Сайдашева, Ф.Яруллина, Н.Жиганова, Д.Файзи. Это именно он организовал при КМУ практически единственный действовавший в городе Симфонический оркестр и стал его бессменным дирижёром. Именно он открыл новые отделения и в училище. Возможно, он не обладал выдающимся талантом исполнителя и дирижёра, но его организаторский дар и расположенность к людям, умение не только угадать в студентах истинный талант и призвание, но и готовность поддержать их в трудную минуту в независимости от положения и национальности, привлекали к нему многих людей. Часто на свой риск и страх, не боясь испортить отношения с консерваторией (во времена Жиганова они никогда и не были безоблачными), он давал характеристики лучшим выпускникам для продолжения учёбы в Москве. В пору директорства Аухадеева по его инициативе в училище привлекали лучшие музыкальные педагогические силы Казани.
Хорошо помню его грузную фигуру, появлявшуюся неожиданно по вечерам в училище. «Ильяс пришёл!» – известие это молнией облетала классы, комнаты срочно проветривались от табачного дыма, влюблённые включали потушенный свет, распадались шумные сборища в коридорах... Надо сказать, что Аухадеев был не мстительный человек и руководитель, он прощал даже довольно злые хулиганские проступки. Однажды кто-то из студентов, «шутки ради», подставил на репетиции оркестра ломаный стул для дирижёра. Ильяс Ваккасович упал со стула, матюкнулся и вышел из зала. Тем не менее, виновники были наказаны довольно мягко и впоследствии получили прекрасные характеристики от директора.
По-моему, Ильяс Ваккасович не любил всяческие собрания и разборки. Что-то косноязычно мямлил и уходил в тень, а часто под видом занятости и вовсе исчезал из зала. Конечно, он вынужден был соответствовать существовавшему порядку, но «совковой оголтелостью» не отличался. На этом поприще блистали другие педагоги, выполнявшие роли надсмотрщиков с видимым упоением.
Скажем, заведующий отделом народных инструментов, баянист Герасимов, появлявшийся частенько в училище «под шафé», мог прилюдно обозвать студенток в слишком коротких на его взгляд юбках проститутками. От юношей он требовал категорически не держать руки в карманах брюк. Отвязаться от него было можно было лишь сказав, что Ленин тоже держал руки в брюках. «Ты с кем сравниваешься?!» – брызжал он слюной, но оставлял в покое.
За внешним видом студентов, надо сказать, вообще следили рьяно: «на ковёр» ты мог быть вызван не только за пропуски занятий или неуспеваемость, но и за слишком зауженные брюки и длинные волосы, за причёску «Бабетта» и за миниюбку... Не говоря уже про увлечение джазом, импрессионизмом в живописи, за чтение Хлебникова и ранней поэзии Маяковского... Это были более серьёзные, так сказать, идеологические провинности, но об этом чуть позже.
Наказывали как и награждали по ранжиру: кого не принимали в комсомол, кого снимали с концертов, кого отсылали, если не сказать высылали (практически пятнадцатилетних подростков) до окончания учёбы на работу в глухую деревню.
Первую скрипку в этом идеологическом оркестре играла учитель истории и обществоведения Галина Яковлевна Белостоцкая. Элегантно одетая женщина со следами былой красоты (по слухам она пользовалась долгие годы благосклонностью сановитых поклонников республиканского масштаба, вплоть до тогдашнего главы Верховного Совета Татарии) и курившая в паузах папиросы «Беломор», она разговаривала со студентами преимущественно серьёзно, щурясь и с испытывающей требовательностью. Это несоответствие внешнего вида и непримиримой большевисткой прямолинейности в суждениях, приводило студентов не просто в замешательство. «Историчка» каким-то образом умела внушать чувство неистребимой вины. При общении с ней, это чувство не то чтобы появлялось, а заранее, вроде бы априори, уже существовало. И она лишь пробуждала его к жизни: всё равно мол когда-нибудь провинишься...
Особенно в ударе Белостоцкая чувствовала себя на собраниях, посвящённым персональным делам. Так называемым судилищам, которые для острастки проводились регулярно в училище. Некоторые из них врезались мне особенно в память. Но прежде чем рассказать об одном из них, следовало бы вспомнить о павших «героях» постыдных разборок.
И не только о них, а вообще – о тех, кто нас «учил» и у кого мы чему-то научились. Согласитесь, это как говорят в Одессе, две большие разницы.
Памятуя о том, что записки эти не историческое исследование, а чрезвычайно личностный огляд и поиск себя в том утраченном времени и мире, позволю себе обозначить лишь отдельные приметы моего училища и избранных людей, его создававших.
Естественно, следует прежде всего напомнить, что образование как бы подразделялось на общеобразовательный цикл предметов (литература, история, математика, физика, иностранный язык, спорт, военное дело) и музыкальные (специальность, камерный ансамбль, концертмейстерство, теоретические и прочие исторические дисциплины).
Так вот, по моему глубокому убеждению, уровень преподавания по общеобразовательным предметам был катастрофическим. Мне по тогдашней наивности казалось даже, что, скажем, педагогиня по литературе, имя которой не хотелось бы и упоминать (случайный человек и в литературе да и в педагогике, она, вероятно, преподавала как могла), намеренно отвращала учеников от изящной словесности. Не говоря уже о точных науках, которые никто и не учил, кроме парочки «зубрил». К сожалению, это всё, что осталось в моей памяти. Тем не менее, уроки по этим предметам приходилось отсиживать из-за стипендии.
Среди моих фаворитов-педагогов по музыкально-теоретическим предметам пальма первенства без оговорок принадлежала Арнольду Арнольдовичу Бренингу. Мне повезло, что он вёл у нас теорию, сольфеджио, гармонию.
Представьте себе высокого, молодого человека (ему тогда было всего 35 лет), одетого с нарочитой старомодностью: широченные брюки клёш, всегда не застёгнутая верхняя пуговица светлой рубашки, отложенной на двубортный пиджак. Небрежно рассыпавшиеся русые волосы, несколько высокомерное, отстранённо-холодное, порой даже брезгливое выражение лица, и неожиданно тёплая улыбка. Часто всуе мы говорим об энциклопедически образованных людях, путая образование с нахватанностью и пузырящейся лёгкостью в разговоре. Мне представляется, что истинное Знание предмета всегда связано с некоей доминантностью нравственных, профессиональных и эстетических позиций. И разумеется, с системностью мышления, что по сути предполагает обязательную избирательность названных выше позиций и, разумеется, предпочтение, а не разбросанную всеядность информативных фактов и историй.
Вот чем обладал Арнольд Арнольдович Бренинг, так это логической системностью мышления. И умением о предмете рассуждать с этой точки зрения. Всё что касалось музыкальных законов строгого стиля, он с педагогической настойчивостью втолковывал их азы в наши юные головы и сердца. Мы учились азбуке звукового бытия.
Однако, уже тогда нам с Феликсом Калихманом, моим закадычным тогдашним товарищем, было интуитивно понятно, что Бренинговские категоричные постулаты не исчерпывают всю эту пугавшую нас музыкальную космогонию. Что существуют бесконечное количество иных ещё незнакомых и заманчивых координат. Мы спонтанно составляли списки литературы, которые должны были восполнять, разумеется, не пробелы нашего Арнольда (он казался нам идеальным педагогом), а наши собственные. Доставали книги и ноты из библиотек, читали, обменивались. Залезли в грегорианскую эпоху, потом ещё в более древнюю ... Перепрыгивали от одной к другой до Скрябина. Кстати, ранний Скрябин – это был наивысший авторитет для Бренинга. На нём подлинная история музыки для как бы и заканчивалась. Композиторы последующих поколений иронически высмеивались, приводились для наглядности «маловразумительные» образцы из музыки Прокофьева, Шостаковича. Не говоря уже о композиторах «нововенской школы», о джазе, звуки которого вызывали неприкрытое раздражение нашего ментора. Едва заслышав доносившиеся из соседнего класса ритмическую комбинацию джазовых аккордов, Бренинг неожиданно прерывал занятия и стремительными большими шагами буквально выбегал из класса, чтобы прекратить ненавистный ему поток «вредной музыки».
Разумеется, были мы восхищены открытием системного освоения музыкального пространства «по Бренингу», ещё не зная, что любая система хороша лишь как отправной пункт, а не непреложный свод законов на все случаи жизни. Следует сказать, что Бренинг-композитор сам оказался «заложником» своей системы координат и в принципах музыкального развития, и даже в выборе тем для своих произведений по случаю того или иного юбилея государства. Самое главное: его музыка не дышала нюансами нарушительного греха, она была слишком правильная. Это был какой-то парадокс мощной, но всё же выхолощенной композиторской энергии. Музыки мягко сказать, без искры божьей. Но это другая тема. Кстати, как пианист-исполнитель он тоже скорее демонстрировал музыку, добротно, основательно, чем интерпретировал. Между слушателем и исполняемым композитором стоял назидательный Арнольд Бренинг.
Нельзя, конечно, рассуждая о Арнольде Бренинге, не сказать о его сестре Ольге и младшем брате Рудольфе. Моя задача не раздавать оценки и не определять степень заслуг (для этого существуют целые организации, формулирующие официальные мнения и награждающие соответствующими почётными званиями). Но попробовать понять характер и движущие силы феномена под названием талант. Конечно, если человек работал, а уж тем более преданно служил искусству и музыке, как все Бренинги – это несомненный вклад. Но какой, какого цвета? Запаха? В этой связи следует дистанцироваться от понятий «нравится - не нравится».
Ольга Арнольдовна Бренинг была, как и её братья, несомненно преданным музыке человеком. Она работала концертмейстером, сопровождала хор, но, как мне всегда казалось, была неким антиподом хору – её инструмент не пел. Надёжно иллюстрировал. Она была большим знатоком хорового репертуара и добросовестным иллюстратором, а не интерпретатором в моём понимании. Но, вероятно, это было удобно дирижёрам.
Рудольф Арнольдович, 25 летний молодой скрипач преподавал тогда камерный ансамбль. Он несомненно тоже был человек системного мышления Как все Бренинги, но более эмоциональный. Это был первый в моей биографии музыкант, который пытался обосновать на уроках (да ещё и вместе с учениками) так называемую концепцию прочтения того или иноо произведения. Для этого он часто использовал ассоциативный ряд. Порою его сравнения и «картины» были слишком конкретизированы и натуралистичны, даже сюжетно вульгаризированы. За это, да и за его несколько манерный стиль преподавания, студенты за глаза над ним посмесмеивались. Тем более при показе, играл он довольно «нечисто», скрипка звучала неестественно. Мои оба партнёра по камерному ансамблю в училище скрипачи Рустем Утэй и Володя Макухо играли намного чище и непосредственнее. Довольно сносно Рудольф Арнольдович владел и фортепиано, не стеснялся показывать и пианистам, но тоже довольно скованно, и я бы сказал, корявовато. Требовал скрупулёзности в динамике, паузах, прикосновении. Но с Рудиком, как мы его тогда называли, было интересно общаться. Он не просто разговаривал со студентом на равных, он умел не только отметить малейшие достоинства своих учеников, но и поддержать и развить их. На уроках Рудольфа Арнольдовича Бренинга, с которым я потом долгие годы сохранял дружеские уважительные отношения, я впервые пережил парадокс несоответствия высоких педагогических требований и усреднённого показа. Не скрывал он доверительно и собственные проблемы. Те кто видел колоритную фигуру молодого скрипача в чёрном, с длинными ниспадавшими народовольческими волосами и длиннополой шляпе, не мог не обратить на него внимание. Рудик не стремился подладиться под массу. Проходя мимо сидевших на лавочках бабулек, он позволял себе произнести громко: «Обыватели на крыльцах (с ударением на первом слоге крыль...) сидят!»
Словом, Бренинги в Казани своим образом жизни и бытования в искусстве убеждали в возможности и необходимости существования альтернативы. Это были люди системы, но не «совковой, а некоей своей, «бренинговской». Системы по убеждению, со своими постулатами. Её нравственные, эстетические проявления могли нравиться или нет. Но невозможно было их не уважать.
Так вот в конце второго курса все студенты были в буквальном смысле согнаны на собрание в концертный зал для осуждения (!) Арнольда Бренинга! 14-15летние подростки должны были два часа выслушивать малопонятные подробности из семейной жизни своего кумира, который оказывается «завёл роман» со студенткой (!). И не в первый раз. Со сладострастием Белостоцкая и коллеги по разборкам копались в грязном белье. На сцену вызывались перепуганные свидетели и бледная виновница сердечного увлечения. Мы с Феликсом Калихманом едва выдержали первый акт судилища и... сбежали. Долгое время мы молча месили весенней распутице почерневший снег казанских улиц. Подавленные происшедшим, мы наконец, выговорились, и решили выразить поддержку нашему любимцу-педагогу. Да, не в первый раз, но разве можно было в него не в любиться? Мы так понимали девчонок.
Итог – единодушное обличение коллектива студентов и педагогов, увольнение по собственному желанию и переезд в Саратов. Так Казань потеряла выдающегося педагога и музыканта.
Совсем другой тип человека и музыканта был Георгий Михайлович Кантор, преподававший у нас историю музыки и народное творчество. С ним меня связывают до сегодняшнего дня долгие десятилетия дружбы. Феномен Кантора для меня с юных лет заключался в умении из обычного факта сделать событийное определение для целой эпохи. И наоборот умение, характеризуя стиль, время, произведение, опереться на порой даже бытовые детали. Вот уж кто истинный мастер «нескучной классики». Он доказал, что История – это увлекательно. Он популяризатор в высшем смысле этого слова и значения. Пожалуй на моей памяти, – а мне довелось слушать со сцен Старого и Нового Света, немало признанных авторитетов в этом жанре, – он лучший. Человек, выходивший к аудитории и зажигавший слушателей вроде бы сухим музыковедческим словом. И неважно кто перед ним: студенческая аудитория, совершенно необразованная, неподготовленная. Говорил, вроде бы захлёбываясь. После его лекций мы частенько бежали и покупали те или иные книги, доставали пластинки и слушали их дома. Он умел фонтанировать. И как бы недосказывать, подталкивая своих слушателей на дальнейший самостоятельный контакт с темой, на поиски, углубление знаний. Его упрекали иногда за популизм, но популяризатор не может не быть популистом в какой то мере. Тема не играла для него никакой роли. Он одинаково увлечённо мог рассказывать об эволюции двухголосия в русской народной песне или о концепции оперной реформы Вагнера. Конечно он был и остаётся основательным историком, краеведом, музыкальным критиком. Но прежде всего для меня блистательным лектором. И импровизатором (кстати, он хорошо импровизировал и на рояле) на любую заданную тему. Доброжелательным и остроумным собеседником. Впоследствии наши эстетические представления не всегда совпадали, но он всегда умудрялся не только со мной но и с другими своими бывшими учениками не играть роль всезнающего учителя, а оставаться прежде всего старшим по возрасту толерантным собеседником и уважаемым коллегой.
Продолжение следует